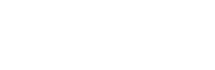В русских сказках красными обычно бывают девицы, молодцы добрые, перышки у них серые, соколиные
В русских сказках красными обычно бывают девицы, молодцы добрые, перышки у них серые, соколиные
Так даже в пьесе-сказке Николая Коляды про Финиста. А он еще тот придумщик. Но Мурат Абулкатинов с молодыми актерами театра поставил не народную сказку, не пьесу Коляды в чистом виде, а фолк-сказ по мотивам. Фолк, как известно, зародился из обрядовых игр, песнеплясок в сопровождении музыкальных инструментов. Сказ — повествование, подражающее фольклору стилем, интонацией, речью.
Постановщик «игрово» решает стародавний сюжет, как полюбила красна девица Финиста…красна сокола, облачив его вместе с художником (Ирина Дерябина) в нарядную червонную рубаху (красный — «прекрасный, красивый» на старославянском ). И это не все новшества спектакля, жанр которого сочинил сам режиссер. Весной Саратов театральный покорила «Золушка» Абулкатинова по пьесе Помра- антисказка, решенная к тому же средствами формального театра.И в «Финисте» приметы такого подхода: холодноватость актерских приемов, преобладание пластики над словом. Кое-кто из зрителей уже упрекнул молодого режиссера в повторе: зачем нам, мол, еще одна «Золушка»? Но здесь иная трансляция текста.
Над нами словно шатер балагана, за ним шумит многоголосая ярмарка. Вот сейчас выйдут ребята-скоморохи, наденут шапки да кокошники (у пляшущей сестрички убор шутовски сползет набок) и разыграют сказ про Марьюшку и Сокола — жениха по народным понятиям, мудрого отца-вдовца, злую старшую дочь, ворчливую с виду Бабу Ёжку, смешного Лешего с подругой его Кикиморой, жадную Тень-Царицу.
Причем разыграют вербально,а больше невербально, лишь обозначая движения народного танца с явными промельками модерна. Порой кажется, что не актеры движутся по сцене, а послушные им куклы — русские Петрушки. А напевное сказочное слово звучит, катается на языке гладким, округлым катышем…
«И всё-то она умеет, всё у нее ладится, а что не умеет, к тому привыкает, а привыкши, тоже ладит с делом», — восхищается Александр Овчинников дочкой Марьюшкой, осваивая непривычную для себя, не характерную роль.
«- А что ж вы хотели, батюшка, чтобы я руки белые в помоях мыла, коров доила, лицо своё ясное солнцу на сенокосе подставляла, тело нежное на работе во дворе напрягала?» — певуче выводит белокурая красавица Таисия Щербак в неожиданном образе bad girl. Она же – забавно зловредная Кикимора.
Да почти все получили роли «на сопротивление». Будто нарочно созданный для царевичей-принцев Александр Демидов гнется к земле столетним Стариком, стонет заколдованным Лешим (у Коляды — Водяной, в афанасьевском же сборнике этих клишированных персонажей и следа нет). И делает это убедительно. С легким флером комизма, как и все остальные. И только Марьюшка Надежды Червонной смотрит на все широко открытыми глазами, и туманят их невольные слезы, неся чистоту и искренность первого чувства даже в такой условный контекст. Как учили Игорь и Любовь Баголеи, мастер и педагог ее курса. Потому что и она, и Тая Щербак, и Элина Сорокина из баголеевского «гнезда» вылетели.
Элина блестяще сыграла угрюмого тинэйджера Золушку в прошлой постановке Мурата. В «Финисте» ее Яга больше похожа на ведьму (Коляда отдал «бабушке» весь арсенал запугиваний из других сказок). И пока актриса не нашла абсолютно точную интонацию. Смешит? — но не смешно. Пугает? — но не страшно.
А страшновато в волшебной сказке быть все-таки должно, это-то к ней и привлекает. У Тень-царицы, бегающей в черном увеличенном кокошнике на заднем плане (Татьяна Нагула) пугать очень даже получается. Помню до сих пор: самой страшной историей моего детства была тоже русская народная , из афанасьевского сборника — «Василиса Прекрасная». Как сияли в ночи глаза куколки ее покойной матери, как горели пустые глазницы черепов на «живом» заборе Яги, как в дремучем ночном лесу проезжал мимо девушки черный всадник на черном коне… мороз по коже!
В своей новой сказке режиссер снова собрал команду недавно окончивших театральные вузы. Команду талантливую и дружную. Фолк-танцы ребята придумывали вместе. Приглашенная опять художница по-своему обыграла спускающиеся канаты (образ не новый, но здесь симпатичный). Получилась версия не традиционная ( не обстоятельно сказочная, как ожидалось) , что уже хорошо: в новом сезоне в новом здании сразу начались эксперименты. Вот только в конце какой-то обрыв в сюжете получился. Слишком уж быстро всесильную Царицу героиня обхитрила, и сказка к финалу прикатила.
Глянула я в сборник Афанасьева: Марьюшка не одно золотое веретенце отдавала — три вещицы за три ночи с любимым. Посмотрела у Коляды: и там она подольше пробуждала суженого от сонного зелья. Финист, как порядочный , еще и с женой законной объясниться успел: променяла, мол, ты меня на злато-серебро! И в отцовом дворе чудеса сотворил: «свистнул в окошко — сейчас явились платья, уборы и карета золотая»… да веселым пирком, да за свадебку…
С пышными уборами и золотыми каретами условный театр не сопрягается, согласна. Но некоторая скомканность финала имеет место быть. Маленькие ли зрители устали смотреть (зрелище не для самых маленьких!), молодость ли артистов взяла свое… – и давай они в горелки бегать по сцене! Сразу всем захотелось тоже куда-то побежать. Жаль, я еще бы смотрела…
Ирина Крайнова, 26.06.2017